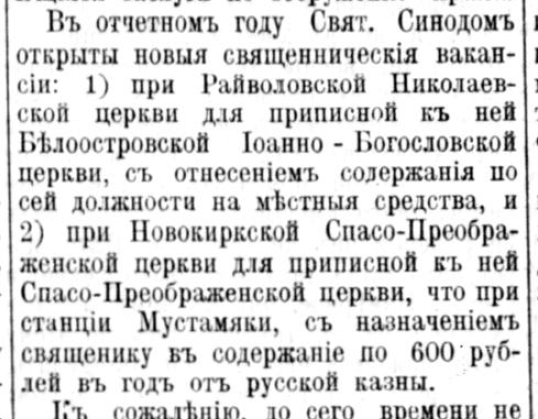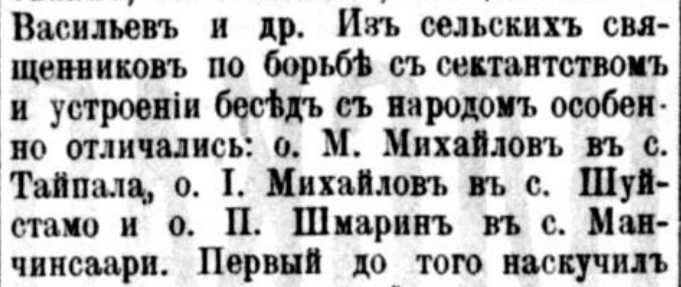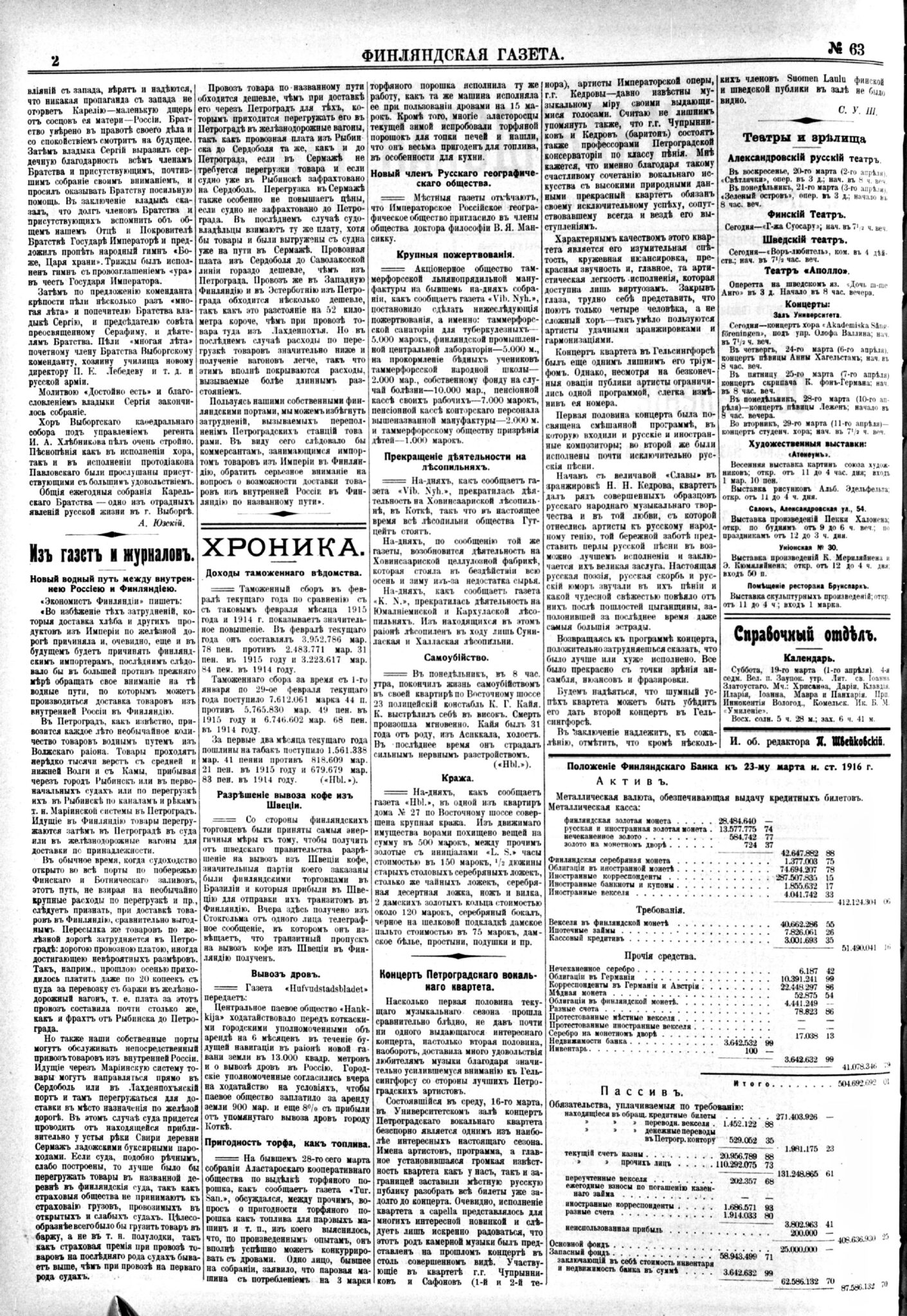1916
В 1916 году Петр Шмарин переведен в Мустамяки
Финляндская газета №18 05.02.1916
Отчетъ о деятельности Православнаго Карельснаго Братства, во имя Св. Великомученика и Победоносца Георгiя. въ пределахь Финляндской Карелiи. за восьмой братскiй годъ (съ 1-го декабря 1914 года по 1-е января 1916 года). Финляндская газета №57 25.03.1916
Речь Петра Шмарина на собрании Карельского братства Финляндская газета №63 01.04.1916
…Затѣмъ священникъ Петръ Шмаринъ предложил вниманію слушателей «рѣчь о религіозно-нравственномъ и просвѣти- тельномъ состояніи Финляндской Кареліи».
Свою рѣчь о. Шмаринъ началъ сообщеніемъ, что онъ прибылъ въ Карелію въ 1910 году изъ центральной Россіи, не имѣя представленія ни о Кареліи, ни о карелахъ, и прожилъ среди салминскихъ карелъ въ теченіе о шести лѣтъ, наблюдая ихъ быть и міровоззрѣніе, приходилось ему во время служебныхъ поѣздокъ наблюдать и быть карель Куопіоской губерніи, и — основываясь на наблюденіяхъ, онъ полагал бы раздѣлить карель Финляндіи — на двѣ группы: 1) карелъ, населяющихъ и приходы, пограничные съ Олонецкой и губерніей, а также живущихъ по побережью Ладожского озера, и 2) карель, я живущихъ въ восточныхъ частяхъ — Куопіоской и С.-Михельской губерній.
Обѣ эти группы рѣзко разнятся, между собою и по внѣшнему виду и по духовному облику.
Салминскіе карелы почти не отличаются оть олонецкихъ мужичковъ: носять бороды, волосы на головѣ стригуть въ скобку, религіозны, часто посѣщають церковь или часовню, въ переднихъ углахъ своихъ избъ имѣють образа, предъ которыми по праздникамъ зажигають лампады или свѣчи, привѣтливы въ обращеніи и т. п.
Куопіоскіе карелы и по внѣшнему виду и по образу жизни мало чѣмъ отличаются отъ своихъ сосѣдей финновъ: въ церковь или не ходять или ходять очень рѣдко и въ своихъ избахъ нерѣдко образовъ не имѣють, а если и имѣютъ, то ставять Въ такихъ мѣстахъ, что ихъ не вдругъ замѣтишь. Финская пропаганда и финское о вліяніе уже сдѣлали здѣсь свое дѣло.
Вниманіе финско-лютеранскихъ пропагандистовъ въ послѣдніе годы направлено было на карелъ первой группы — салминскихъ и суоярвискихъ.
Большую услугу финско-лютеранской пропагандѣ въ Кареліи оказываеть Сердобольская, учительская семинарія, питомцы коей, поступая въ народныя школы Кареліи въ качествѣ учителей, а вмѣстѣ и законоучителей, являются первыми и главными насадителями финско-лютеранской культуры среди подрастающаго карельскаго населенія. Болѣе, откровенные изъ учителей не скрываютъ этого, а финская сепаратисткая печать возлагаеть на учителей большія надежды.
Посредствомъ газеть, изданій, школъ, народныхъ университетовъ, лекцій и т. п. финско-лютеранская пропаганда ведетъ свою просвѣтительную работу в Кареліи.
«Что-же дѣлается съ нашей русской стороны, — продолжаетъ лекторъ, — для того, чтобы оградить православныхъ карель — этихъ нашихъ младшихъ братьевъ по упованію, отъ духовнаго порабощенія ихъ со стороны финновъ. Всего только нѣсколько лѣтъ тому назадъ было обращено должное вниманіе на религіозно-нравственное и просвѣтительное состояніе православной Фин- ляндской Карелія. По карельскимъ деревнямъ начали открываться русскія министерскія школы и школы Православнаго Карельскаго Братства. Подростающая карельская дѣтвора, вмѣстѣ съ русскимъ языкомъ, воспринимаеть теперь русскую культуру и глубоко укрѣпляетъ въ своемь сознаніи тѣ православно-русскія начала, которыя почти въ равной степени исторически были присущи и карельскому народу… Сгустившіяся было надъ Кареліей черныя и смрадныя тучи съ запада начинаютъ понемногу разсѣиваться… Для того, чтобы русскую просвѣтительную работу въ Кареліи поставить на болѣе раціональныхъ и плодотворныхъ началахъ, въ 1913 году въ г. Выборгѣ была учреждена учительская семинарія. Исторія возникновенія этой семинаріи мало извѣстна широкой публикѣ, а потому я вкратцѣ коснусь ея. Въ 1912 году въ Салму пріѣзжалъ нынѣ покойный министрь народнаго просвѣщенія Левъ Аристидовичъ Кассо. Тамошніе русскіе люди, а также и карелы составили изъ своей среды депутацію и поручили ей изложить министру просвѣтительныя нужды Кареліи и просить его объ ототкрытіи въ Салмѣ или городѣ Сердоболѣ русской учительской семинаріи, главнымъ образомъ, для просвѣтительныхъ нуждъ православной Кареліи… Въ составь этой депутаціи входилъ и я. Намъ посчастливилось убѣдить господина министра въ необходимости открытія для Карелія учительской семинаріи. Однако, по иѣкоторымъ причинамъ семинарія эта была открыта не въ центрѣ Кареліи, а въ Выборгѣ, но обязательства семинаріи по отношенію къ Карелія остались тѣ-же. Мало того, мнѣ кажется, что эти обязательства семинаріи предъ Кареліей должны въ еще большей мѣрѣ выступать въ сознаніи руководителей ея и питомцевъ. Вѣдь если бы семинарія была открыта въ центрѣ Кареліи, то самая обстановка, вообще условія ея существованія вліяли-бы на созданіе у учащихся соотвѣтствующихъ духа, взглядов и направленія… Теперь-же семинарія предоставлена сама себѣ, поэтому чрезвычайно важно и необходимо, чтобы она сама себя подогрѣвала и направляла свою дѣятельность согласно тѣмъ цѣлямъ и задачамъ, ради которыхъ она и открыта. Какія-же эти цѣли и задачи? Мнѣ кажется, эти цѣли и задачи тѣ-же самыя, какія начертаны на знамени Православнаго Карельскаго Братства, т. е. Православная вѣра, Царь и недѣлимая Россія. Поэтому, лишь тогда относительно семинарій можно сказать, что она находится на правильномъ пути, когда вся ея внутренняя жизнь будеть обвѣяна духомъ церковности, когда семинарія сумѣетъ сдѣлать своихъ питомцевъ глубоковѣрующими людьми, хорошо знающими исторію и условія жизни края, и когда они ясно будуть себѣ представлять и любить тѣ задачи и цѣли, которыя они себѣ поставили, поступивши именно въ Выборгскую учительскую семинарію, призванную быть духовнымъ свѣточемъ для всей Православной Финляндской Кареліи. Бывшій Директоръ Семинарія Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Павель Евлампіевичъ Лебедевъ отлично понималъ эти цѣли и задачи ввѣренной ему семинаріи. Но, къ сожалѣнію, семинарія слишкомъ рано, еще юной и неокрѣпшей въ своемъ направленіи, лишилась этого почтеннаго руководителя и работника… Неизвѣстно, кто будеть его преемникомъ на этомъ посту, въ высшей степени нравственно отвѣтственномъ предъ всей православной Кареліей… Но хотѣлось бы вѣрить, что на отвѣтственный пость директора Выборгской учительской семинаріи будеть назначено лицо глубоковѣрующее, хорошо освѣдомленное въ отношеніи края вообще и Кареліи въ частности, отлично знающее мѣстныя условія жизни, способное, не поддаваясь могущимъ быть стороннимъ вліяніямъ, твердо вести семинарію по намѣченному пути и къ намѣченной цѣли… Во всякомъ случаѣ, пусть семинарія знаетъ и твердо помнить, что русское населеніе края зорко слѣдитъ за всею ея жизнью. Оно отъ души будетъ радоваться, если семинарія, это его родное дѣтище, будеть преуспѣвать въ своихъ высокихъ зада- чахъ и, наоборотъ, открыто выскажеть свое порицаніе, если эти святыя задачи ею будуть забыты или въ недолжной степени исполнены…»
Отделение Мустамякского прихода от Уусикоркского прихода Финляндская газета №184 08.09.1916
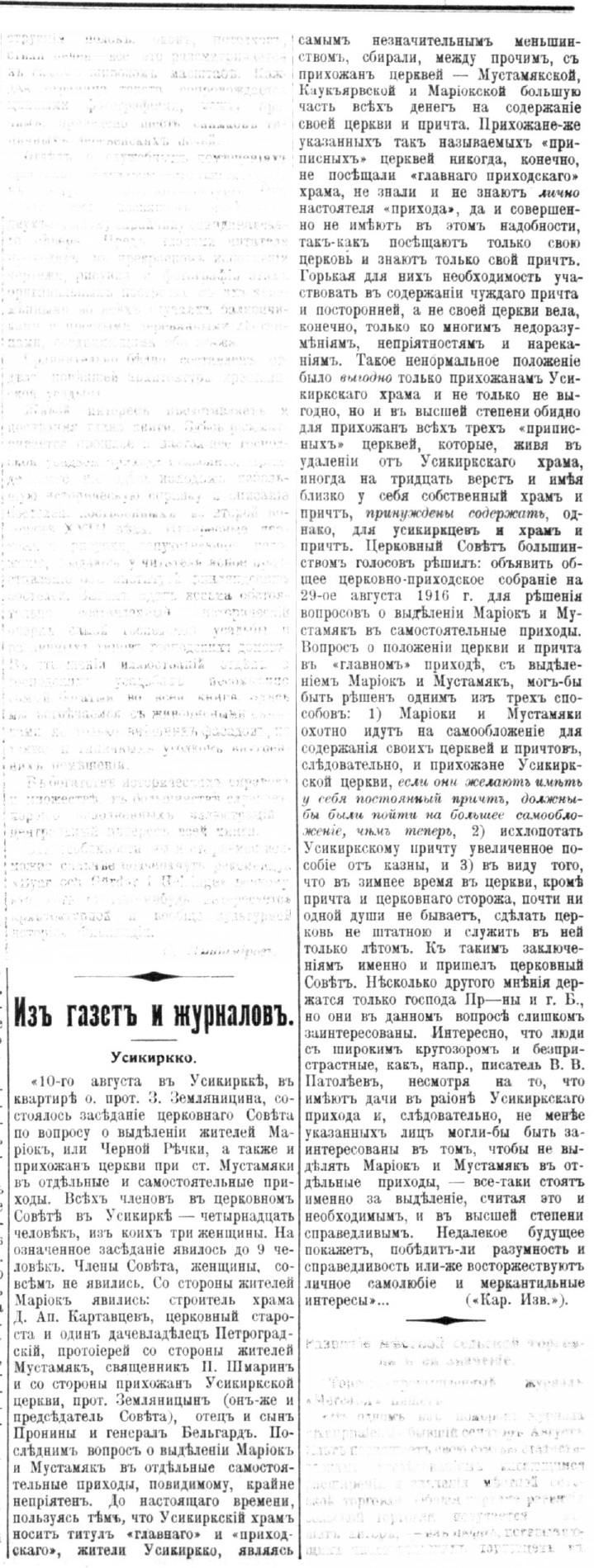
Усикиркко.
«10-го августа въ Усикирккѣ, въ квартирѣ о. прот. 3. Земляницина, состоялось засѣданіе церковнаго Совѣта по вопросу о выдѣленіи жителей Маріокъ, или Черной Рѣчки, а также и прихожанъ церкви при ст. Мустамяки въ отдѣльные и самостоятельные приходы. Всѣхъ членовъ въ церковномъ Совѣтѣ въ Усикиркѣ —-четырнадцать человѣкъ, изъ коихъ три женщины. На означенное засѣданіе явилось до 9 человѣкъ. Члены Совѣта, женщины, совсѣмъ не явились. Со стороны жителей Маріокъ явились: строитель храма Д. Ап. Картавцевъ, церковный староста и одинъ дачевладѣлецъ Петроградскій, протоіерей со стороны жителей Мустамякъ, священникъ П. Шмаринъ и со стороны прихожанъ Усикиркской церкви, прот. Земляницынъ (онъ-же и предсѣдатель Совѣта), отецъ и сынъ Пронины и генералъ Бельгардь. Послѣднимъ вопросъ о выдѣленіи Маріокъ и Мустамякъ въ отдѣльные самостоятельные приходы, повидимому, крайне непріятень. До настоящаго времени, пользуясь тѣмъ, что Усикиркскій храмъ носить титулъ «главнаго» и «приходскаго», жители Усикиркко, являясь самымъ незначительнымъ меньшинствомъ, сбирали, между прочимъ, съ прихожанъ церквей Мустамякской, Каукъярвской и Маріокской большую часть всѣхъ денегъ на содержаніе своей церкви и причта. Прихожане-же указанныхъ такъ называемыхъ «приписныхъ церквей никогда, конечно, не посѣщали «главнаго приходскаго» храма, не знали и не знають лично настоятеля «прихода», да и совершенно не имѣютъ въ этомъ надобности, такъ-какъ посѣщають только свою церковь и знають только свой причть. Горькая для нихъ необходимость участвовать въ содержаніи чуждаго причта и посторонней, а не своей церкви вела, конечно, только ко многимъ недоразумѣніямъ, непріятностямъ и нареканіямъ. Такое ненормальное положеніе было выгодно только прихожанамъ Усикиркскаго храма и не только не выгодно, но и въ высшей степени обидно для прихожанъ всѣхъ трехъ «приписныхъ церквей, которые, живя въ удаленіи оть Усикиркскаго храма, иногда на тридцать версть и имѣя близко у себя собственный храмъ и причть, принуждены содержать, однако, для усикиркцевъ и храмъ и причть. Церковный Совѣтъ большинствомъ голосовъ рѣшилъ: объявить общее церковно-приходское собраніе на 29-ое августа 1916 г. для рѣшенія вопросовъ о выдѣленіи Маріокъ и Мустамякъ въ самостоятельные приходы. Вопрось о положеніи церкви и причта въ «главномъ» приходѣ, съ выдѣленіемъ Маріокъ и Мустамякъ, могъ-бы быть рѣшенъ однимъ изъ трехъ способовь: 1) Маріоки и Мустамяки охотно идуть на самообложеніе для содержанія своихъ церквей и причтовъ, слѣдовательно, и прихожане Усикиркской церкви, если они желаютъ имѣть у себя постоянный причтъ, должны- бы были пойти на большее самообложеніе, чѣмъ теперь, 2) исхлопотать Усикиркскому причту увеличенное пособіе отъ казны, и 3) въ виду того, что въ зимнее время въ церкви, кромѣ причта и церковнаго сторожа, почти ни одной души не бываетъ, сдѣлать церковь не штатною и служить въ ней только лѣтомъ. Къ такимъ заключеніямъ именно и пришелъ церковный Совѣтъ. Нѣсколько другого мнѣнія держатся только господа Пр-ны и г. Б., но они въ данномъ вопросѣ слишкомъ заинтересованы. Интересно, что люди съ широкимъ кругозоромъ и безпристрастные, какъ, напр., писатель В. В. Патолѣевъ, несмотря на то, что имѣютъ дачи въ раіонѣ Усикиркскаго прихода и, слѣдовательно, не менѣе указанныхъ лицъ могли-бы быть заинтересованы въ томъ, чтобы не выдѣлять Маріокъ и Мустамякъ въ отдѣльные приходы, все-таки стоять именно за выдѣленіе, считая это и необходимымъ, и въ высшей степени справедливымъ. Недалекое будущее покажеть, побѣдитъ-ли разумность и справедливость или-же восторжествують личное самолюбіе и меркантильные интересы»…
(«Кар. Изв.»).